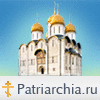|
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове |  |
| Русская Православная Церковь/Московский Патриархат/Юго-Западное Викариатство г.Москвы/Параскево-Пятницкое Благочиние |

|

|
Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествует. |

|
 |
Православный календарь
Найти
Актуальное видео
Православные ссылки
КТО НА САЙТЕ
Сейчас 193 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
Вход на сайт
Публикация: Проект «Память Церкви». Священнослужители. Протопресвитер Владимир Диваков 18.10.2024 12:53
Уникальная база материалов проекта «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху» составляется под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви всеми духовными школами на территории Российской Федерации. В рамках проекта своими воспоминаниями поделился секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков. Часть 1 Я родился в 1937 году в городе Москве, где и жил. В июне месяце 1941 года ожидалось рождение моего братика, который появился на свет на пятый день Великой Отечественной войны. Сейчас ему 83 года, он ключарь Берлинского кафедрального собора. Поскольку маме предстояло лечь в роддом, она на лето отвезла меня на отдых к бабушке в Белоруссию. В первые же дни войны Белоруссия была оккупирована немцами, и мой «отдых» продолжался там до 1944 года, когда наши войска освободили Белоруссию. Так что о войне знаю не по фильмам. Немцы занимали все избы в селе, а нам разрешалось жить только в землянках. Не буду описывать все ужасы войны, — о них и так много рассказано. Одно лишь упомяну, о чем узнал позднее: в 20 километрах от того места, где мы жили в то время, был страшный детский концлагерь, где подвешивали детей, надрезали им вены и брали кровь для раненых офицеров вермахта, особенно у детей от 4 до 7 лет, считая, что у них самая активная кровь. Моя тетя, простой сельский житель, не думая о последствиях, при всяком удобном случае подчеркивала немцам, указывая на меня, «у него отец офицер». (Отец погиб под Вязьмой осенью 1941 года). При немцах в Белоруссии открыли храмы, и тетя часто приводила меня туда. Очень хорошо запомнилось, как я, стоя в храме, всматривался в прорези царских врат. И так хотелось заглянуть туда, внутрь алтаря, но, к сожалению, кто же меня мог впустить? Ведь мне было всего лишь около пяти лет. Попасть в алтарь мне довелось значительно позже, уже в другом храме и другом городе. Немцы квартировались в домах и, естественно, их протапливали. Утром, выходя из землянки, я, дрожа от холода, каждый раз заглядывал в избу, не ушли ли немцы на свои сборы, а если ушли, вбегал в избу и залезал на печку, которая обычно была еще теплой. Отступая, немцы сжигали дома и расстреливали домашний скот. В день их отступления я, пригревшись на печке, уснул, но почувствовал какой-то жар. Потрогал печку — она холодная. Подбежал к окну и увидел людей, плачущих и что-то кричащих. Я по-детски выскочил в окно и увидел, что дом горит. А у меня на печке осталась дубленочка. Я бросился назад за ней. Люди истерически кричали, но мне жалко было дубленку, которая всегда спасала меня от холода. Ухватив ее, я вновь выпрыгнул из окна, при этом услышал треск обрушившейся крыши и потолка. Еще миг, и меня уже никто бы не нашел. После освобождения от фашистов Белоруссии мама перевезла меня домой, в Москву. В Москве меня ожидало еще более нелегкое время. Продукты выдавались по карточкам. Если в Белоруссии был, как говорится, подножный корм, то есть то, что не ели немцы, например, бобы, картофель, грибы, то в Москве этого не было. Мы с братом, естественно, не доедали. Мама, чтобы мы не голодали, работала в две смены: и днем, и ночью. Но, все равно, всегда было желание когда-нибудь наесться вдоволь. По воскресным и праздничным дням мама водила нас с братом в храм святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Мне очень хотелось попасть в алтарь и мама попросила настоятеля храма пустить меня туда. Настоятель говорит: «Ну куда? Там уже шесть человек!» Но потом, смягчившись, согласился, и мне разрешили. С каким же страхом и трепетом мы входили в алтарь! И не только это. Мы смотрели на священников, как на некое божество. На них хотелось молиться. Батюшки служили, а мы старались запомнить каждое их движение, каждое произнесенное ими слово. И потом, дома, тихонечко им подражали. Вот это осталось у меня в памяти на многие годы. Сейчас, глядя, как порой современные ребята входят в алтарь, мне становится очень грустно. Для нас это было непросто. Вспоминаю, что в алтаре нас было шесть человек, и только три стихаря. Кто первый придет, тот и облачится. Раньше почти во всех храмах Москвы торжественными были ранние Литургии. Война, наверное, сказалась. За поздней же молилось всего несколько человек. Основная масса людей вся была на ранней Литургии. Начало в семь часов. Значит, полседьмого — это максимум, а то и в начале седьмого, с первым трамваем, надо было приехать в храм, чтобы стихарь достался. А потом придумали делать по-другому. Кто-нибудь ошибся, прозевал что-нибудь, не вовремя подал кадило или еще что-то — все, давай, снимай стихарь. Поэтому смотрели за каждой мелочью, чтобы не ошибиться. Потом, когда я уже стал священником, помню, тоже так поглядываю, а мне владыка Питирим[1] говорит: «Слушай, успокойся, ты же уже священник. Но я и сам таким был». Вот так смотришь, вовремя ли подали кадило, свечи и так далее. Уже невольно думаешь, что надо делать. Все это, можно сказать, делалось «с молоком», с первых времен моего служения. Поэтому сейчас с досадой смотрю, когда приходится напоминать, подсказывать: «Отцы, слушайте, неужели вы не знаете или не помните этот момент? Почему зеваете?» В то время у нас это было непозволительно, но зато это очень хорошо воспитывало. Сейчас, при собеседовании с абитуриентами, поступающими в духовные школы, на память часто приходит мой детский опыт, детские годы. Самые яркие впечатления — это, конечно, детские, которые остаются на всю жизнь. В послевоенные годы духовенства, естественно, не хватало. Некоторые храмы уже стали открывать, но семинарий еще не было, поэтому пользовались тем немногочисленным духовенством, которое было. Многие священнослужители, я бы сказал, большинство, прошли через обновленчество. И когда после войны курс несколько изменился, обновленцы стали как-то приспосабливаться, чтобы войти в Патриаршую Церковь через принесение покаяния. К сожалению, как я потом убеждался, покаяние не всегда было искренним. Для многих из них оно было чисто внешним. Помню, как один из таких священников, бывших обновленцев, как-то шепнул мне на ухо: — Ты знаешь, кто самый главный враг Церкви? — Не знаю, — говорю. — Тихон. То есть с одной стороны внешне они признали свою неправоту, но в душе они остались теми же. Это одно. Второе, мне, конечно, сначала нравилось, как они служили: внешне очень эффектно, с воздетыми руками, на коленях, даже Евхаристический канон. Молебны, акафисты — тоже на коленях. В то же время появились батюшки, которые вышли из заключения. Батюшки тихие, незаметные, молчаливые, но как-то очень сосредоточенные. Они много не говорили, служили очень скромно. Не было этого постоянного воздевания рук, все было очень спокойно. При этом чувствовался какой-то особый настрой. Для нас, мальчиков, подходить к ним было страшно. Бывшие обновленческие батюшки с нами обращались запросто. Они и в алтаре вели себя раскрепощенно, любили там посидеть, о чем-то рассказать. Эти — наоборот, молча стояли и молились, также строго служили. В то же время они были одеты, как нам казалось, не совсем аккуратно, даже небрежно: телогреечки, потертые и штопаные курточки, стоптанная обувь. А те батюшки, из обновленцев, наоборот, старались одеться по тому времени очень хорошо. Конечно, вышедшим из заключения батюшкам прихожане предлагали лучшую одежду и обувь, но они, как правило, отказывались. Говорили: «Нет, не надо, не надо. Мы так, мы так…» Мы, мальчики, улыбались: «Что же им предлагают хорошее, а они отказываются?» Многое мы не понимали. Прошли годы, потом через близких к этим священникам людей, мы узнали, как эти батюшки объясняли свой отказ: «Ведь нас, видимо, выпустили ненадолго, придут и в чем есть, в том и заберут, а там не дадут одеться. И кроме того, если будет хорошая одежда, ее шпана снимет. Так без всего и останешься. Уж к этому тело привыкло, так что ничего, будем как есть». И вот когда я об этом услышал, то сразу подумал о другом. Вспоминая, как они служили, не просто скромно, а с огромным внутренним горением, поскольку считали каждую службу последней в своей жизни. Они ждали, что за ними еще придут, а если придут, то эта служба будет последней. Естественно, настрой-то какой был! И к тому же трепет! У меня такой батюшка остался в памяти — отец Вонифатий Соколов, который служил в Лефортове. К нему будущий владыка Питирим приезжал на исповедь. Он еще не был Питиримом, сначала иподиаконом, потом уже иеромонахом. На исповедь приезжал часто. И вот эти скромные батюшки, которые, казалось, никак внешне себя не проявляли, в то же время меня удивляло, как они друг у друга исповедовались. Как они строго разговаривали на исповеди. Обновленческие батюшки быстро накроют епитрахилью — и отпускали. А эти так назидательно, строго назидательно. И даже со стороны было видно, что очень строго, не формально относились к исповеди. И это очень трогало. И эта картина до сих пор у меня перед глазами. После окончания 7-го класса я пошел работать, чтобы как-то помочь маме, и поступил учиться на вечернее отделение Электромеханического техникума. В конце 3-го курса я сломал правую руку и был расстроен, что не имел возможности сдавать экзамены. Видя моё подавленное состояние, один из священников Петропавловского храма сказал мне: «Бросай ты свой техникум и поступай в семинарию!» Его поддержал настоятель храма, говоря, что даст мне рекомендацию. Один молодой священник тоже предложил мне свою рекомендацию, но я ответил, что уже получил ее от настоятеля. Знать бы мне, кем будет этот молодой священник! Это был будущий протопресвитер отец Матфей Стаднюк. В семинарии был конкурс четыре человека на место. Меня не только приняли, но и зачислили сразу во 2-й класс. Годы обучения в семинарии совпали с хрущевскими гонениями на Церковь. Каждый день мы слышали: сегодня закрыли 50 храмов, 100 храмов, несколько десятков монастырей, что естественно было для нас большим потрясением. Мы тяжело вздыхали, но были беспомощны что-то изменить. Оказывается, Хрущеву должны были каждый день докладывать о закрытиях храмов. И все-таки я в 1962 году, на третьем курсе академии, подал прошение на рукоположение, после этого вышел во двор академии (я уже об этом неоднократно в интервью говорил), сидит старший помощник инспектора с газетой в руках — игумен Павел (Петров), сидит и говорит: — Ну, ты читал? — Что? — С Церковью будет покончено. Все. В ближайшее время. Ты куда пойдешь? — Как куда пойду? Я подал прошение на рукоположение. — Дурак что ли? Беги, назад бери. — Нет, я не пойду. — Будешь потом жалеть и меня вспоминать. Я действительно, жалею его и вспоминаю. Плохо он кончил. Он все-таки ушел из Церкви. Поддался вот этой волне. Жалко его. Как-то его однажды увидел в электричке. Он убежал. Ну, стыдно, наверно. Ему самому стыдно. Но поздно, уже сделал шаг, маловерие такое проявил. Перед венчанием мы с будущей моей супругой были у митрополита Николая (Ярушевича), он успокаивал нас и говорил: «Не поддавайтесь этой волне. Корабль идет, буря в море, но мудрый кормчий всегда выведет. Не бойтесь. Вы увидите лучшие времена, которых мы никогда не видели. Увидите, увидите! Вы не унывайте, духом не падайте. А там, кто чего говорит, вот такие, которые и меня поносят — вы на них не обращайте внимания. Жалко их. Это жалкие люди. Они потом очень будут жалеть, но поздно будет, когда они будут жалеть об этом». Вот мне как раз удалось увидеть наяву события этих слов. Точно так же рассказывал и владыка Иосиф (Чернов) — митрополит Алма-Атинский и Казахстанский. Сейчас говорят, что его канонизацию готовят. Когда я в Хамовниках служил, увидел однажды его, подходящим к иконе Божией Матери, хотя он был одет в светское, и говорю: — Владыка, благословите. Пойдемте к нам на чашечку чая. Благословляет, но возражает, что неудобно. Но потом все же уступил. На колоколенку его затащили. За чаем я говорю: — Владыка, как хорошо, что мы Вас увидели. — Да, я часто, когда в Москве бываю, к Матери Божией прихожу приложиться. Как же мимо пройти — я не могу так пройти. Поэтому я в очередной раз зашел. Но потом рассказывает: — Памятное у меня осталось одно событие от чего часто плачу. Не уподобляйтесь мне. Вы знаете, я в 1941 году в канун Рождества, в Рождественский сочельник, вышел из заключения. Первую десятку отсидел, в первую волну попал. Меня, как архиерея, там на самые грязные работы, на самые постыдные работы посылали. Но ничего, вышел. Но там казалось, что поскольку много храмов закрыли, оставшиеся храмы, наверное, переполнены. Пришел в Хамовники — а храм пустой практически. Человек 10-15 стоит. Это ужас. Лучше бы я не выходил из заключения. Это меня убило совсем. Господи, говорят: «Врата адовы не одолеют Церковь». Так уже одолели. Нет ее, Церкви, уже. На следующий день пошел в Елоховскую церковь. В Елоховской служил Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский). Пошел в алтарь, хотел повидаться, а там алтарница увидела меня и закричала: «Ты, бродяга, ты куда пришел? Сейчас милицию вызову». Милиции вокруг собора полно, а нам же, кто из заключения вышел, нельзя было в Москве показываться. Я бегом из алтаря, скорей, пока не поздно. Вышел, молюсь у иконы: «Матерь Божия, вразуми, что делать?» Пришла мысль написать записку. Написал записку владыке: «Я — такой-то, такой-то, отбыл наказание, хотел с Вами увидеться по поводу дальнейшего своего служения…». Теперь как передать? Боюсь туда зайти. Эта матушка проходит мимо. Я говорю: «Матушка, пожалуйста, возьмите, передайте митрополиту». Она, видимо, подумала, зачем от какого-то бродяги передавать записку митрополиту? И во время запричастного стиха передала ее отцу Николаю Колчицкому: «Вот, какой-то бродяга передал…» Он прочитал: «Где он?» Она торжественно идет и показывает: «Вот он!» И вдруг, к ее ужасу, отец Николай Колчицкий подходит ко мне: «Владыка, благословите!» Она рванула так, что пятки засверкали. Он повел меня к митрополиту Сергию. Мы вместе поплакались. Я посмотрел еще, что и в Елоховском соборе на Рождество Христово было человек 100 — это ж пустой собор. Думаю: «Врата адовы не одолеют… Одолели». Четыре архиерея остались на свободе и те, которые должны только отмечаться приходить, потому что их посадят последними. И нет — Церкви нет уже, все. Я вот в таком состоянии был. Меня послали в Петропавловск-Камчатский на служение. Я поехал туда. Приехал, там тоже обновленцы. Пустые храмы. Я в таком страшном унынии был! И вот наступил июнь месяц, и храмы стали переполненными. Великая Отечественная война началась. Люди хлынули в храмы. И с тех пор я плачу, плачу, как апостол Петр — как же я, архиерей Божий, усомнился в словах Господних, что «врата ада не одолеют Церковь»? Не одолели! Так вот, вы, отцы, не поддавайтесь (сейчас хрущевские гонения, закрывают церкви), вы еще увидите лучшие времена. Все это пройдет. Все пройдет. Вы духом не падайте. Вы еще подождите — все храмы откроют! Как хотелось верить! В то время трудно было верить. Ну, ничего. Все-таки надо было не сдаваться и оставаться. И так вот дальше пошло служение. Это уже многие описывали и описывают. Тяжеловато было. Один из первых храмов, в который меня назначили, был Петропавловский храм в Лефортове, в котором я вырос. Но через три года меня перевели в Хамовники. Настоятелем храма был благочинный, который исхитрился через секретаря Патриарха меня перевести в Хамовники, хотя я сопротивлялся. Храм святителя Николая в Хамовниках был запущенным. Но благодаря глубоко верующему старосте, что было крайне редко для того времени, мы восстановили его в прежнем благолепии — как пасхальное яичко. Проезжал мимо первый секретарь МГК партии Гришин (а в то время ни зелени не было, ничего, из метро выходишь — и храм): «Это что? Это преступление! Идеологическая диверсия! Проспект в честь Комсомола начинается с церкви, да еще иконы снаружи навешали (а там, в нишах написали иконы, которые были утрачены, но мы их вновь написали) чтоб комсомольцев завлекать. Разберитесь и к стенке за такое!» К стенке не поставили, но перевели в другой храм, я не предполагал, что меня в другой храм переведут, поэтому был растерян, убит, думал, что 12 лет отслужил, замечаний не имел, только в порядок привели храм, за что меня переводить? Но теперь узнал: оказывается, в то время была инструкция — храмы не должны были выглядеть нарядными. Они должны незаметными быть, серенькими, непривлекательными. А мы нарушили это правило. За нарушение правил меня и гоняли. Тогда моя супруга обратилась к одному московскому владыке и спросила: — Владыка, скажите, за что ж его так? Чтобы потом эту ошибку не повторять дважды. — Матушка, ему прилепили такой ярлык, от которого ему не отмыться. Пусть потерпит. — Какой ярлык? — Фанатик. Вот. С этим и живу. Казалось бы, меня старались куда-то загнать, сначала перевели в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках. Через полгода, когда я в очередной раз приехал к отцу Матфею Стаднюку, секретарю Патриарха Пимена (а я тогда нередко приходил к нему помогать какие-то бумаги оформить, что-то перепроверить), он мне говорит: «Посиди, посиди тут». Потом вышел, вернулся и говорит: «Тебя Патриарх хочет видеть». Я вхожу в кабинет к Патриарху. Патриарх Пимен говорит: — Отец Владимир, обижаетесь на меня? — Да нет, ну что Вы, Ваше Святейшество, как я могу? — Так поймите, мы можем на своем настоять, но они больно отомстят. Они ведь очень мстительные. Этим он дал понять, что они ему досаждают, и в дальнейшем я узнал, что и в самом деле, это был нажим сверху. Поэтому он защитил меня и не дал перевести из Москвы. Он поменял нас местами с моим однокурсником по академии, который тогда служил в храме преподобного Пимена Великого. Он защитил. Но самое трогательное было, что Патриарх просил прощения. Господи, какое прощение?! Поэтому такие добрые впечатления остались. При всех четырех Патриархах, слава Богу, пока Господь миловал, ни от одного не доставалось ничего плохого. Все как-то милостивы были ко мне. Святейший Патриарх Алексий I рукополагал меня в сан пресвитера, так что это особая память. В то время, когда совершалась хиротония, Патриарху сослужили только одна или две пары духовенства. Съемок, как сейчас, конечно, не было. Архидиакон мне рассказывал, что, когда Патриарх меня рукополагал, он плакал. Я этого не видел, поскольку при рукоположении моя голова была под омофором Святейшего Патриарха. Из данного сообщения архидиакона я понял, что впереди мне предстоит что-то потерпеть. В первые же годы моего священнического служения в Лефортове отец Матфей Стаднюк пытался уговорить меня стать исполняющим обязанности настоятеля на время его командировки в Александрию. Но я категорически отказывался, говоря: «Да кто же меня послушает? Будет развал в приходе. Я лучше буду помогать тому, кого назначит Патриарх». И впоследствии всегда это делал, всячески уклоняясь от настоятельства. Первые 25 лет мне это удавалось, как в Петропавловском храме в Лефортове, так и в храме святителя Николая в Хамовниках. В храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках повторилась та же история, что и в Хамовниках. Мы сделали капитальный ремонт храма. Настоятель храма, протоиерей Димитрий Акинфиев, часто говорил: «Меня хвалят за то, что так прекрасно благоустраивается храм, но ведь это все делает отец Владимир Диваков, прикрываясь моим именем». Да, действительно, я старался помогать настоятелям тех храмов, где служил, но так, чтобы самому быть в тени. В 1987 году, уже не спрашивая, меня назначили настоятелем в Троицкий храм на Пятницком кладбище, напомнив при этом, что это последний приход в Москве, а дальше только область. Уполномоченный тоже сказал мне, что там, у могилок, оградки передвигать не придется, подчеркивая тем самым, что он знает о моем непосредственном участии в передвижке церковных оград на исторические места в тех храмах, где я служил. К моему удивлению и удивлению многих, пророчество о Пятницком кладбище не сбылось, но произошло обратное. На Епархиальном собрании меня избрали членом Епархиального совета и далее благочинным Северного округа (в то время в Москве было только три благочиния). В Епархиальный совет, как считаю, я попал по недоразумению. 8 декабря 1988 года было проведено первое Епархиальное собрание, которое вел митрополит Владимир (Сабодан), управляющий делами Московской Патриархии. Собрание проходило в церковном доме при Богоявленском соборе в Елохове, в зале, который ныне именуется трапезным залом. Присутствовало где-то 100 с лишним человек, практически все на то время московское духовенство. В президиуме сидел уполномоченный по делам религий по городу Москве, кажется, в звании генерала. Владыка Владимир предоставил слово протопресвитеру Матфею, секретарю Святейшего Патриарха. Отец Матфей сказал: — У нас сейчас, по новому Уставу, должен действовать Епархиальный совет в составе не менее четырех священников, двое из которых выбираются и двое других назначаются. Меня, секретаря Епархиального совета, назначил Патриарх. Двух благочинных назначили членами Епархиального совета. Далее он предложил кандидатуры еще двух именитых протоиереев. Владыка Владимир спрашивает: — Подождите, отец Матфей, а из кого избирать-то? — Ну вот, есть два. — Отец Матфей, из двух-то не избирают двух. — Но есть же два! — Отец Матфей, да что Вы… Прекращайте. Давайте еще двух. Тот бедненький, то поднимет очки свои, то опустит. Уполномоченный сидит на другом конце стола, проконсультироваться нельзя. И так минут 10 продолжалось, Владыка Владимир: — Отец Матфей, давайте еще двух, я Вас прошу. Хотя он спокойный был человек, а тут не выдержал: — Отец Матфей, (кулаком по столу) давайте! Молодежь давайте! В это время в зал зашел известный протоиерей Сергий Суздальцев. — Ах, вот Суздальцев! А затем остановил свой взгляд на мне, поскольку знал меня с детского возраста по Лефортово, где он начинал свое служение. Поэтому и предложил мою кандидатуру. Я это предложение воспринял с обидой, понимая, что делает он это от безвыходности, и у меня навернулись слезы. Я был уверен, что меня не только не изберут, но и будут насмешки, поскольку есть более именитые и достойные священники. Начался подсчет голосов. Владыка Владимир объявил: — Большинством голосов избраны протоиерей Анатолий Казновецкий и протоиерей Владимир Диваков. Я тут же спросил у отца Матфея: — Батюшка, а что такое Епархиальный совет? — А ты думаешь, я сам знаю? Сказали избрать. Вот и все. Сиди и молчи. Потом, когда в 1989 году стали открывать храмы, нужно было проводить учредительные собрания с участием представителей Московской Патриархии. Один благочинный отказывается, ссылаясь на больное сердце, другой — на зрение. Тогда отец Матфей напомнил мне, что я являюсь членом Епархиального совета, и такие собрания надлежит проводить мне. Так 90% учредительных собраний в Москве пришлось провести мне. Хочу отметить, что проведение таких собраний — дело непростое. Порой, по четыре-пять двадцаток претендовали на тот или иной храм, часто туда желали попасть совсем не церковные люди, считая, что храмы богатые и там они смогут поживиться. И вот тут надо было как-то варьировать, тем более, что и законы были такие, которые не давали нам той свободы, которую сейчас имеет духовенство. В то время председателем собрания мог быть тот, кого изберут, могли избрать не священника, а светского человека, порой малоцерковного. И они диктовали условия. Вот это и было тяжело. Бывало, до драк доходило на таких собраниях, а иногда и до угроз. Но, слава Богу, по милости Божией, я всегда благодарю Бога, что в Москве я не допустил ни одного раскольничьего прихода, ни одного храма не отдал им. Ни одного. В области были, в Москве — нет. Хотя стычки иногда бывали страшные. Особенно запомнился храм святителя Николая в Пыжах. Но, слава Богу, я при всем этом был спокоен, хотя нажим был очень сильным. Но мы устояли. Уполномоченный часто напоминал: «Пар из котла надо выпускать. Вы должны отдать Суздальскому расколу[2] некоторые храмы!» Но нет. Я строил политику так, чтобы этого не допустить. Никому не уступал, за что, конечно, благодарю Бога. Хотя невольно вспоминаю, как уже после собрания у меня тряслись руки. Шесть часов идет собрание — ор, крик. Сторонникам Патриархии противостоят такие оппоненты, как отец Глеб Якунин[3], правозащитники и их братия. Просто два противоположных лагеря: мы и наши враги. Иногда вспоминаю некоторые детали, которых было множество. Порой приходилось продумывать всевозможные ситуации для того, чтобы как-то разрядить сложившуюся обстановку. В то же время ничего противозаконного мы не делали, упрекнуть меня в противозаконности не приходится. В настоящее время говорю молодежи: «Слушайте, отцы, благодарите Бога, что вы живете в такое счастливое время. Вы даже не сможете понять, поскольку не испытали того, что пережили в годы лихолетья. Видно, надо было пройти через это для того, чтобы понимать, насколько это полезно, счастливо и радостно для нас». Также привожу примеры. Как-то, в первые годы служения прихожу домой, только вошел, разделся, вдруг теща какая-то испуганная входит в комнату и говорит: «Ты только вошел, ломится кто-то в дверь. Им открыли. Две незнакомые женщины. Спрашивают: — У вас священник? — Да. — Что он делает? — Отдыхает. — Как отдыхает? А почему он здесь отдыхает? Он не имеет никакого отношения к этой квартире. Он здесь не прописан. — Подождите, подождите! Это квартира его жены. Разве у своей жены он не может отдыхать? — У жены?! А, ну ладно. Тогда ладно. Деваться некуда, ушли. А для чего приходили? Поймать. Крещение на дому совершает или еще какую требу. В то время они старались стоимость этой требы перемножить на 365 дней и приплюсовать к годовому доходу. Тогда доход в зависимости от суммы растет. За три года не расплатишься с налогом. Вот таким образом устрашали духовенство. Я иногда эти детали рассказываю молодежи. Они удивляются: неужели так было? Так было, да, так было, отцы. Сейчас вы живете спокойно. Да еще вам всячески помогают. В больницу придешь, а причастить больного было нельзя. Сначала надо было взять согласие от всех членов палаты. Каждый должен был расписаться. Главврачу надо было заверить. Как правило, всего этого почти никогда нельзя было добиться. Или только в отдельной палате. Но перевести больного в отдельную палату, чтобы причастить, также не всегда было возможно. Но, все-таки причащались! Ухитрялись, причащали народ, соборовали. Убегали из-под носа. Мне приходилось так ноги уносить, когда гнались за мной. Я знал, что если поймают, то будет большая неприятность. Какая? В то время могли отобрать регистрацию, и служить уже было бы невозможно. Служить без регистрации — это срок. Вот и игрались этой регистрацией. Придешь, например, к уполномоченному, документы, регистрацию покажешь. Документы вернет, регистрацию положит в ящик письменного стола. А потом разговаривает с тобой как кошка с мышкой — мол, могу отдать, а могу и не отдавать. Вот так. И что могли сделать в таком случае батюшки? А дома семья, дети. Не отдаст регистрацию, а Патриархия что скажет? Чем сможет помочь? Проблему никто не решит, никто не сможет защитить. Меня, когда рукоположили, — что во диаконы, что в сан пресвитера, — меня не учили. Когда меня рукоположили в сан диакона, владыка Леонид (Поляков), настоятель Богоявленского собора, спрашивает архидиакона Владимира Прокимнова: — Отец Владимир, кто у Вас завтра служит? (а их два диакона всего было, и оба уже в возрасте). — Я. — Ну, Вы отдохните. Завтра ставленник будет. Ничего, он других учил, будучи иподиаконом, пусть теперь сам послужит. Более того, владыка пришел сам, стоял всю Литургию в алтаре, смотрел, ничего не подсказывал… Я послужил. Он идет, ворчит: — Не умеешь ты служить. Когда читал Евангелие, орарь под Евангелие не подложил. Так что единственную ошибку он у меня все-таки нашел. Через день я приехал в академию. Там, в академии, служили так: кто старше курсом, тот и возглавляет. Хоть ты только сегодня рукоположен, все равно. Пришел, там протодиакон с двойным орарем. Он спрашивает у ректора: — Отец ректор, ставленник только пришел, он из академии. Что делать? — Знаешь, что? Ставленник есть ставленник. Вот пусть он начинает. Ошибется, вы и скажите ему: «Вам придется подождать». Ставленник отслужил всенощную и Литургию. Ошибки не сделал. Это через день после хиротонии. С одной стороны, спокойно было, но первый раз всегда все очень трепетно, хоть диаконом, хоть священником. В Лефортово назначили. Пришел. Отец Матфей уехал. Там был старший батюшка. Служил Литургию Преждеосвященных Даров. Он начал: «Благословенно Царство…», а потом говорит: — Батюшка, становитесь к престолу и продолжайте. — Батюшка, вообще-то я еще не служил Преждеосвященную… — Мы люди не ученые, а Вы ученые, академики. Вот Вы и служите, а мы поучимся. — Ладно. Отслужил Литургию, он причастился, промолчал. Замечаний не сделал никаких. Потом просит: — Батюшка, а теперь покойничка отпойте. — Батюшка, а особенности, все-таки, есть какие-нибудь? Отвечает мне: — Батюшка, такая книжечка есть — Требничек. Возьмите Требничек, там все написано. Раз так, я пошел, и по Требничку стал служить полностью без сокращений. И кафизму 17-ю, и стихиры, и канон полностью, все от начала и до конца. Бежит другой священник и говорит: — Ты что делаешь? Это не читай, это пропускай. — Так мне настоятель сказал все по Требнику. — Так он меня и послал, чтоб тебя остановить. После этого случая со мной так не шутили. Это не гордость, я не жалею, что с детства старался все это впитать, запомнить. Зато мне было не стыдно, когда матушки алтарницы учили батюшек. Смотреть со стороны на это было даже неловко. Этого мне терпеть не пришлось, слава Богу. Но без замечаний не обходилось. Помню, в академии я служил всенощное бдение и, как старший курсом, возглавлял его. В алтаре молился Патриарх Алексий I. На «Слава Тебе, показавшему нам свет» я поднял руки. Патриарх мне палочкой своей по рукам: — Откуда ты это взял? От обновленцев взял? — Простите, Ваше Святейшество, наверное, так. Вот в памяти оставалось, что поднимали они руки. Прошло время, сошли на нет обновленцы и их нововведения. С другой стороны, для того времени это был выход из положения, чтобы храмы еще существовали, и хоть кто-то духовно окормлял людей. В 1960-е годы их оставалось все меньше и меньше, и потом уже сошло совсем на нет. И сейчас, когда я вижу, как некоторые батюшки пытаются что-то изобретать, порой напоминающее обновленчество, а то и католичество, меня это печалит, памятуя о том, чем это все закончилось в прошлом веке. Я имею ввиду даже внешние эффекты в служении и в движениях священнослужителей. Как мне сообщают, некоторые молодые священники обижаются и говорят: «Занимают место старики, молодежи не дают хода». Ну что же, я не держусь за свое место, но делаю все по мере сил. Что я могу делать, я делаю, но самое главное — делать так, чтобы потом не жалеть о содеянном. Стараюсь делать так, выложиться так, как я считаю правильным. Иногда бывают разные случаи, в том числе которые приходится выяснять у Патриарха. — Ваше Святейшество, вот так было ранее принято. — Пожалуй, так и верно. — Благословите, а дальше как? — Так и делайте. Хорошо. Я иногда вспоминаю, рассказываю, как было. В ответ он говорит: «Давайте сохранять то, что было». Изобретая новое, мы не знаем, будет ли это лучше. Прежнее уже апробировано и привычно. Во всех случаях: в служении, жестах и движениях, как это было ранее. Но это отдельный случай. В большинстве случаев находим общее согласие. С протокольной группой совместными усилиями находим оптимальные решения тех или иных богослужебных вопросов. В 4-м классе семинарии у меня было плохо с сердцем. Мне давали лекарства, которые мало помогали. Направили меня в Первую городскую больницу на какое-то электролечение, в общем, потом немножко ослабилось. Я пошел в то время к врачу. Больница была там, где сейчас семинария. Больница была городская в Сергиевом Посаде. Я пришел, а врач, старый врач, спрашивает: — Слушайте, Вы на чем приехали? — Я не приехал, я пришел. — Вы что, с ума сошли? С пульсом в 150-160 Вы идете, и вдруг машина, Вы перебежали — и конец. У меня сын в Вашем возрасте в день рождения спустился, сбежал со второго этажа, встретил гостей, поднялся наверх, сел — и готов. Но Вы не расстраивайтесь. С Вашим сердцем и до 50 можно дотянуть. Потом уже в 1970-е годы у меня сердечно-сосудистый криз случился. Я лежал, и если голову поднимал с подушки, то я терял сознание. Один известный врач пришла и говорит: — Дети-то есть? — Да. Повздыхала, говорит: — Жалко. И с таким сожалением ушла. Все домашние — рыдать, жалко, приговаривают. Потом, другой врач пришла, выписала какое-то лекарство, сказала: — Знаете? Встанет. Только не скоро. Месяца два-три пролежит, потом встанет. Потихоньку я начал вставать, хотя руки и ноги у меня дрожали. Но я все же поехал на праздник, в храм в Хамовники. Приехал, Патриарх Пимен говорит: — Отец Владимир, Вы живы? — Да. — Многие уже думали, Вы при смерти. Меня просили дать священника заменить Вас. Нет. Вас менять не буду. Другого священника позже встречаю в электричке, он говорит: — Батюшка, я же тебя за упокой поминаю! — Спаси тебя Господи. Это был отец Анатолий Провада, потом на его месте я служил на Пятницком кладбище. Господь меня как-то миловал. Так же как миловал во время войны в Белоруссии, когда в последнюю минуту из горящей избы выскочил. Сгорел бы. Мне уж так надо благодарить Бога, что дожил вот до такого возраста! Я у Господа в большом-большом долгу. Много раз был на грани смерти, но Он меня миловал, и я по Его милости живу, хотя, казалось бы, уже не должен был бы жить. Наверное, только по молитвам мамы. Часть 2 Организация богослужений в Кремле, составление графика всех служений, назначение священников и хора лежат на мне. Вот, стараюсь по возможности, чтобы никому не досадить и самому не подвести никого. Как начались службы в Кремле с 1990-го года, с 23 сентября, так вот они с тех пор все практически на мне лежат. Как-то Патриарх Алексий сказал: «Батюшка, это Вам Кремль, это Ваша забота. Вот Вы там с дирекцией решайте все вопросы. Разных людей мы не будем туда поставлять. Вы будете ответственны за это, а там курируйте и смотрите, кому чего поручить». А там всякое бывает — и с комендатурой, и с дирекцией музеев Кремля. Им надо заранее дать расписание. Год еще не закончился, а уже в октябре — в ноябре им надо дать расписание на следующий год. Не дай Бог, какую-нибудь службу пропустим или захотим дополнительно послужить — это целая проблема потом: «Вы знаете, у нас в план не включено, у нас туристы, у нас все размеренно по своему графику идет, поэтому Вы должны нас информировать правильно». Были такие случаи, когда по какой-то причине какие-то не включили службы, потом попробовали включить — это целая проблема была. И комендатура говорит: «Вот, в расписании нет. Патриарх дал нам расписание — их нет». Патриарх дал то, что я подготовил ему. Надо сказать еще, что меня милует этот комендант. В каком плане милует — я могу на машине въехать туда. Мне по брусчатке ходить тяжело — ноги больные. Он разрешает. Но для того, чтобы проехать, я должен приехать раньше семи часов. Там дай Бог 30-40 минут, а то может и час простоишь, пока досмотр. Вот стоим с отцом Вячеславом, стоим, стоим, стоим, пока придут они на досмотр. Только машина одна на досмотр сначала. Когда досмотрят машину, надо идти на личный досмотр. Когда мы приходим, над нами некоторые батюшки, которые пешочком пришли, потешаются, что пришли в храм раньше нас. Каждый раз служба в Кремле — это испытание на прочность. Мы знаем, что сейчас такая обстановка в мире. Еще многое зависит от проверяющих солдат. Одни расположены тепло, другие очень строго, официально, а некоторые даже еще более резкие — они заставляют чуть ли не раздеться, когда под одеждой проверяют. По-всякому бывает. Ради того, чтобы служба была нормальная, приходится это терпеть. Отказаться от этого нельзя. Потому что если я откажусь, то сорву службу, опять какие-то сложности будут. Потом как-то приходит к нам отец Вячеслав. Он у нас ризничий, труженик, облачения привозит, на каждую службу привозит все, что нужно для службы, и Евангелие, и кресты, и пелены, и ковры. Все привозит накануне этой службы. Потом в самый день службы утром приходит, чтобы все приготовить. Ему приходится очень тяжело. Он говорит: «Батюшка, Вы знаете, я облачения приготовлю, а за службой командуйте Вы сами, как служба пойдет, по какому уставу, Вы сами говорите архиереям». Архиереям говоришь: «Владыка, давайте вот так и так, уже по принятому уставу». Как правило, споров по этому поводу нет. Уставы есть особые, конечно, поскольку Успенский собор — это Патриарший собор. Он единственный в Русской Православной Церкви Патриарший собор. Патриарх Алексий II в последней своей проповеди, за два дня до смерти, сказал, что митрополит Филарет, который более 40 лет был митрополитом Московским, в Успенском соборе никогда на горнее место не садился, он говорил: «Это Патриарший собор, я не могу». Патриарху я как-то сказал об этом, он говорит: «Значит, верил все-таки, что Патриаршество будет восстановлено». В Архангельском соборе он садился, но это был кафедральный собор города Москвы. Так Успенский собор остался Патриаршим собором до сего времени, а Архангельский собор перестал быть кафедральным, после того как построили Храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя — кафедральный собор Москвы, а Успенский собор — всей России. Так до сих пор. Поэтому в Успенском соборе особое служение. Если где-то на приходе архиерей приходит, облачается, всегда архиерейские встречи. В Успенском соборе ничего такого нет, там облачение в алтаре. Служат скромно и не на кафедре. Сейчас вот, слава Богу, мы немножко приспособились. И музей нас не трогает, как раньше бывало. Поначалу они на нас как на врагов смотрели, потому что, конечно, они были хозяевами, и вдруг мы пришли, мешаем им, какие-то свои требования предъявляем. Еще там была директриса, которая говорила: «Почему вместо двух кадил у вас было три кадила? Почему вместо двух подсвечников у вас три подсвечника? Это нарушает микроклимат, это нарушает температурный режим». Потом у нас бабушки идут. Они все прикладываются к иконам. Им говорят: «К экспонатам нельзя прикасаться». Составляли акт о нарушениях с нашей стороны: «Вынуждены с вами разорвать договор и прекратить богослужения». Но в результате подписывал, подписывал я эти нарушения сколько, а потом ту директрису освободили, другая стала. Но уже, чтобы к иконам не прикладывались, витринки перед ними. Теперь не подойдешь уже к иконам. Они по-другому решили. Потертости на стене — говорили: — Вот, это ваши потертости. — Ну почему наши? Туристов у вас сколько? Почему только мы должны отвечать за все? — Нет. Это ваши. Но это уже в прошлом. Я хочу сказать, что этого уже нет сейчас. Но это пришлось перенести какое-то время. Теперь даже некоторые музейные работники походят под благословление и очень приветливы. Под елейное помазание подходят. Сейчас от них нет каких-либо придирок или претензий. А вот от комендатуры — да. Но комендатура подчиняется уже общему режиму. Все зависит от людей. Как я уже говорил, одни солдаты расположены, другие очень подозрительны и не расположены. Один досмотр прошли, едем уже дальше в Боровицкие ворота. Там опять проверка документов, говорят нам: — Подождите. — Мы уже досмотр проходили. — Ну, проходили и проходили. Мы тоже посмотрим. Машину покажите, багажник. Кто-то просит выйти из машины, кто-то не просит. По-всякому. Привыкли мы — такая сейчас тревожная обстановка. Поначалу нервировало, а сейчас мы привыкли и на это особо не смотрим. Не знаю, думаю, что тот, кто уже будет после меня, пусть занимается этим делом. Раньше в Кремле было два протопресвитера — один в Успенском соборе, другой в Архангельском. Последний был и придворный протопресвитер. Потом было по-всякому, а когда в Кремле перестали уже служить, протопресвитер был в Храме Христа Спасителя — отец Александр Хотовицкий. У меня, между прочим, крест от него есть. Он священномученик. Когда я в Хамовниках служил, там был настоятелем отец Павел Лепёхин. Он 50 лет там был настоятелем — это редкое явление, на одном месте. И вот дети его говорят: «Батюшка, вот у нас крестик кабинетный. Это крестик отца Александра Хотовицкого. Вы, конечно, то ли будете, то ли не будете протопресвитером, но пусть память будет от него». Но получилось так, что действительно стал протопресвитером. Хотя протопресвитерство мое — как недоразумение, потому что был такой известный протопресвитер отец Николай Колчицкий. Вот это был протопресвитер. Владыка Питирим о нем пишет, что такого не было и не будет, наверное, уже больше, такой фигуры значительной во всех отношениях. Это полное совершенство во всем. Знание службы, дикция, прекрасный голос, баритон. Если он спокойным голосом говорил в соборе — никаких усилителей не надо. В каждом уголке собора было слышно. Но и, кроме того, конечно, власть такую он имел, и Патриарх прислушивался к нему. Колчицкий скажет — это уже всё. Это уже был приговор. Он был секретарь Синода, он же председатель Учебного комитета, он же настоятель собора, протопресвитер. Значимая фигура. Правда, он по фигуре был килограмм на 200, наверно. Когда с ним разговариваешь, он что-то говорит, кажется, что толкнет уже, а он вроде на расстоянии стоит. Как-то ему все это шло, импонировало. Некоторых архиереев даже мог поставить на место. Вот владыка Сергий (Ларин) такой был из обновленцев. Много полезного он делал даже со своей этой экстравагантностью, но с другой стороны иногда его заносило. В эпоху Хрущева — это владыка Леонид рассказывал, — он Сталинградский был и прославился там какой-то историей. Ее раздули в тогдашних газетах. Его пригласил Колчицкий. В Чистом переулке у него маленький кабинетик был. Вызвал и говорит: — Владыка, что Вы позволяете себе?! Вы позорите Русскую Православную Церковь! Вы что делаете?! Вы кладете пятно на Церковь! Ларин сидел-сидел, потом как ударит кулаком по столу: — Протопресвитер Колчицкий, встаньте! Перед Вами архиерей Русской Православной Церкви! Колчицкий медленно встал — гора такая, и говорит: — Владыка, великодушно простите. Я допустил недопустимый тон. Хотя я, по существу, передал все, что просил меня Патриарх передать Вам. Поэтому прошу великодушно простить. Ларин был доволен и всем рассказывал, как наконец-то он проучил Колчицкого. Проучить-то он проучил Колчицкого. Здесь, в Мамонтовке, у него дача была. Он на ней побыл недели две и поехал к себе в Сталинград. Приезжает, ему говорят: «Владыка, Вам срочный пакет из Патриархии». Вскрывает. Там решение Синода — он уволен на покой. После этого желающих проучить Колчицкого среди архиереев не было. Вот, это один из таких характерных примеров. Я рассказывал, Патриарх Алексий I болезненно воспринимал хождение через горнее место. Там горнее место в то время было очень узкое. Когда проходили без причины, он говорил: «Почему прошли, какая необходимость? Это что, прогулочная зона?» Я помню, как один уже теперешний архиерей на покое в то время был иподиаконом у владыки Алексия (Коноплёва) прошел раз, два. Отец Николай Колчицкий говорит: — Вам же сказано было. Почему Вы игнорируете просьбу Патриарха? — Ну, мне там что-то нужно… — Вы с каким архиереем? — С владыкой Алексием. — Вот передайте владыке Алексию, чтобы в следующий раз он брал с собой другого иподиакона, а Вам в алтарь этот вход воспрещается. Всё. Пока был жив Колчицкий, уже никто опротестовать не мог. В то же время Колчицкий брал на себя такие вещи, которые никто другой не возьмет. Не все можно рассказать. Вот один из студентов, мой товарищ из Лефортово, закончил семинарию на одни пятерки. В академию не рекомендован. А почему? В то время часто вызывали в военкомат. Мы москвичи, и нас не могли как иногородних призывать в армию в то время. У них брали воинские билеты, рвали и все. Белые билеты, красные рвали и все — пойдете служить. Учиться можете, значит, будете служить. С москвичами так не могли. Ему там тоже, как и мне говорили: — Вот выучитесь, и что? Дармоедами будете? Вы куда пойдете? Что будете делать? — Учить нравственности людей. — Без вас научат нравственности. Короче говоря, это вербовка практически была. Дядя сидел в светской одежде, хотя это военкомат. Леня решил подурачиться, говорит: — А по каноническим правилам говорится то-то и то-то… — О, милый, вы, наверное, в детстве падали? Головой ушибались? В психдиспансер. Короче говоря, его все-таки не взяли в армию, но и в академию не рекомендовали. «Слишком умный», — сказали. Это хрущевские времена, как раз самый разгар. Он говорит: «Что мне делать?» Ему говорят: «Идти к Патриарху Алексию. Ты же его иподиакон». Патриарх в то время был в Одессе — летний период. Он поехал туда. Написал прошение. Патриарх написал резолюцию больше, чем само прошение, чтобы зачислили. Он приходит с этой резолюцией к ректору, а тот говорит: «Нет. Принять мы вас не сможем». Патриарх написал, а ректор не подчиняется ему. Это было особое время. Он говорит: «Что мне делать?» Ему говорят: «Пойди к отцу Николаю Колчицкому. Он же тебя по Елохову-то знает». Пошел к отцу Николаю. Тот думал, думал, потом говорит: «Ну вот, Леня, я в первый день занятий приеду в академию (он всегда так приезжал), там будет корпорация меня встречать, ты будь где-то рядом». Его встречали как Патриарха всегда — в святых воротах, вся корпорация Лавры и академии. Он прошел к преподобному, пришел в академию и говорит: — Покажите мне, где будет заниматься первый курс академии? — Вон там. — Нет. Покажите мне! — его провели. — Этот курс? — Да. — Леня, ты где? Подойди сюда. Вот, садись за первый стол и занимайся. И все. И все были довольны. Ректор был доволен, что мол «не я, не я, не я». Отец Николай Колчицкий все это взял на себя. Значит, давление было хорошее, если уж ректор боялся. Это просто характеристика Колчицкого, что он мог и такие вещи сделать, когда другие в кусты уйдут. Он шел напропалую. Правда, в последнее время при Хрущеве чувствуется, что на него начались наезды большие и у него инсульт и парализация — и все. Он пролежал потом с год, наверное, и умер. Но вот, я хочу сказать, что в Елоховском соборе впереди небольшое пространство было в начале кафедры. Там было стояла группа ребят — девчонки, мальчишки. Он их всех опекал: «Детей не трогать». Это та же самая воскресная школа, можно сказать, была, которая категорически запрещалась в то время. Колчицкому можно было. Колчицкий отстаивал свое. А в отношении службы — если он позднюю служил, как правило, приезжал к ранней, в алтаре громко вычитывал правило полностью, после правила входные молитвы, а затем Литургию. Неустанно вычитывал всегда все полностью. Владыка Питирим пишет: «Мы учились у него». Поэтому он говорит, что такого не было и уже не будет второго. Я часто вспоминаю его и Патриарху даже об этом сказал: «Ваше Святейшество, конечно, я Колчицкому и в подметки не гожусь». С одной стороны, меня это угнетает, потому что понимаю, что мне далеко до того, каким был Колчицкий. Не знаю, почему меня Господь поставил на такой пост, хотя всегда, где я ни служил, всегда я старался быть за спиной какой-нибудь. Как один настоятель говорил, протоиерей Димитрий Акинфеев: «Вы знаете, меня вот хвалят: то-то, то-то сделал. А я что делаю? Я ж ничего не делаю. Отец Владимир делает, а меня хвалят. А это не моя работа». Но я так и старался, действительно, чтобы не вылезать. Но все равно, как вот в Хамовниках вышло, когда первый секретарь МГК партии проехал: «Кто?» На настоятеля. Настоятель сразу: «Нет, я ничего, это отец Владимир, это его работа». Ну раз его работа, тут голова и полетела уже. Все. Меня погнали. Много раз казалось, что уже совсем все, дальше уже ехать некуда, но Господь оставлял для чего-то. Чего я могу? Сейчас уже практически ничего не могу, только вот текущую работу веду. Что-то радует, что-то печалит. Радует, когда вижу старательных, усердных. В их лице я вижу самого себя и думаю: «Господи, как помочь им?» В то время за это по шапке бы мне дали. Но сегодня у них, слава Богу, есть возможность такая проявить себя и кроме того, польза есть от этого. Недавно в одном храме был, там настоятеля молодого поставили. До этого там все на месте стояло, а тут сразу территория преобразилась, храм преображается. Думаю: «Господи, хоть бы он побольше побыл, только бы не перевели его». Хотя он совсем еще молодой — он исполняющий обязанности настоятеля — сравнительно молодой, а храм такой большой. В душе я просто переживаю за него. Но знаю и другие мнения: «Что это? На такой храм такого мальчишку поставили». Я на это отвечаю: «Слушай, вот если бы ты был там, там все, что было, и было бы. Там бы ничего не изменилось, а посмотри, как храм преобразился. Он находит такие решения, которые бывалым настоятелям были не под силу». Один настоятель там был, ему говорят: «Давайте дом причта построим». Он говорит: «Что вы, что вы, ни в коем случае. Если мы его построим, назначат архиерея какого-нибудь или еще кого-то. Лучше так обойдемся». И все, улетел оттуда. И дом причта не построил, и самого перевели. Поэтому я этому молодому священнику говорю: «Делай, пока есть возможность. Делай». Я с одной стороны радуюсь в душе. С другой стороны, думаешь: враг рода человеческого не давал Церкви, чтоб она так долго благоденствовала. История развивается по спирали. Сейчас пока, слава Богу, у нас есть такая возможность что-то делать, но долго ли это продлится? Он воздвигает иногда гонения в неповторимых формах, непонятно с какой стороны ударит — или финансово, или еще с других каких-то сторон. Короче говоря, потом и рад бы это сделать, да, к сожалению, не получается. Как вот начали открывать храмы после войны и до 1948 года открывали. Некоторые батюшки говорили: «У нас сейчас с деньгами плохо. Мы подождем пока открывать. Потом. Будем пока обустраивать свой быт». Обустроили свой быт, а потом в 1948 году уже прекратили открывать храмы, а потом начали и вообще закрывать. Вот тут и спохватились: «Да, жалко, мы не взяли. Нам давали то-то, давали то-то… не взяли». Отец Вонифатий Соколов, бывало, получит деньги, идет в Лефортово, за ним толпы с кружкой ходили: «Батюшка, помогите». Он всем раздавал. Там был другой батюшка, у которого деньги — самое больное место было. Он ему говорил: «Вы не думаете о своей старости, отец Вонифатий. Подумайте, подумайте. Обеспечить себя надо». Купил он и машину, купил дачу, у него сын и супруга. Отец Вонифатий умер. У него не только своей дачи не было, он где-то снимал жилье. Хоронили его, можно сказать, всем приходом. Так торжественно, как архиерея. А у того священника сын пьяница стал, заболел. Потом, когда при Хрущеве было обложение-переобложение налогом, раз машина есть, облагали до того времени, что машину изъяли, потом дачу. Потом все, что было на сберкнижке — все изъяли практически. Потом он заболел. У него рак. Операцию сделали, пролежал в больнице больше шести месяцев. Там исполнительный орган был от исполкома. Они говорят: «Он больше, чем полгода в больнице, мы имеем право с ним расторгнуть договор». Расторгли договор и он остался на улице. Ходил с ручкой, попрошайничал. Потом дали ему какое-то место временно. Только он об этом заботился. Тот не заботился и не понадобилось, а этот столько об этом заботился и вот поплатился. И так вот осталось у меня это с детских лет в памяти, что когда заботишься о материальном, то это ни к чему хорошему не приведет, а когда не заботишься — оно придет само по себе. Оно придет, даже если не думал об этом. Я помню, в молодости приходили к нам батюшки служить молебны на дому. Мама хоть раз в полгода или год приглашала батюшек молебен послужить. Она сколько-то, 250 рублей, что ли, давала. А как-то пришел настоятель, строгий такой. Она ему дает деньги, а он: «Что?! Ты что, одурела что ли? У тебя двое детей на твоих плечах! Ты что мне суешь? Вот кормить кого надо». Она опешила: «Батюшка, простите, я Вас обидела…» Он ушел сердитый. Она к нему подходила потом прощения просить. Он ей говорит: «Чего просить прощения? Ты о них заботься. Их обеспечивай». Вот это у меня тоже осталось в памяти на всю жизнь. Так что я никогда ни с кого не спросил. Вот это у меня за всю историю, сколько я служил, никогда не было, чтобы я с кого-нибудь спросил деньги — никогда не было. Никогда. Вот этого я не могу. Так что упрекнуть меня в этом никто никогда не мог и не может. Мне в этом плане спокойно. Хотя в тех храмах, где я служил, были всякие там батюшки, которые злоупотребляли. В Хамовниках один такой батюшка был, свечки какие-то продавал через свечниц. Пришел новый настоятель, отец Николай Петров, начал расследовать и почему-то хотел меня к этому приплести. Они говорят: «Нет, батюшка, мы боялись отца Владимира, не посвящали его в это дело». Они потом поплатились за это. Так что в финансовых махинациях я не мог быть и никогда не был замешан. И здесь вот, тоже сказал старосте, как пришел: «Все, что богослужебные вещи — да, финансовые вещи — нет. Этим я не занимаюсь». Они отчитываются, говорят, как все хорошо, но сам к деньгам отношения не имею. Не беру. Только из меня-то не надо делать какой-то образец, ореол. Единственное, живу сейчас не тем. Сейчас у меня супруги дома уже нет. Я в квартире один. Сын приезжает, внуки приезжают, но так в основном я один. Что я буду? У меня только церковные дела. Больше ничего, других лишних забот у меня нет. Уже надо бы сделать ремонт в квартире, она запущенная, но уже думаю мне это не по силам. Думаю, ладно, пусть потом уже молодежь сделает. Сами сделают, как им больше нравится. А то сделаю, они будут переделывать. А так у меня Патриархия и храм в основном. Это у меня каждый день. Выходных у меня нет. У меня единственная забота — сделать что возможно для храма. Когда я пришел сюда, храм был в таком виде, что мне один благочинный в то время сказал: «Батюшка, меня уж, думаю, ладно. Но тебя-то за что? Такой храм. Это ж просто как наказание». Я говорю: «Ладно, что есть, то есть. Мне бы только одно, увидеть объем храма. Переломать, что внутри. Мне бы только объем храма увидеть. Я уж не говорю восстановить убранство, что в храме есть». В храме сейчас пять алтарей, но в то время нельзя было даже временного алтаря устроить на месте одного из пяти алтарей. Патриарх Алексий как-то вечером приехал перед крестным ходом и говорит: — Батюшка, а как же Вы служить-то, где будете? — Ваше Святейшество, благословите пока временно на середине храма сделаем алтарик. — Ну, давайте так. Помогай Вам Бог. Так, как будто само по себе все делается. Я вроде как наблюдатель, получается. Наблюдаю, а вокруг все делается. Но тут нельзя сказать, что у меня спокойно проходило с церковным советом. И поскандалю, докажу, а люди еще мало воцерковленные были, околоцерковные. У них апломб, они хотели показать свои знания. Колокольни не было. Колокольню пришлось построить. Она была запроектирована, но потом началась война 1812 года. Фундамент сделали, ее не достроили. Потом от старого храма колокольня была, пользовались ей, но ее сломали в 1937 году. Встал вопрос о постройке новой колокольни и мы ее построили. Конечно, это не снилось. Не моя это заслуга. Это какая-то Божия милость к нам, не знаю, за что. Может, за моих родителей. У меня мама такая. Она по всем монастырям ездила, где только можно было. Глинскую пустынь и другие старалась посетить. Теща у меня замечательная была. Все тещ ругают, а у меня теща была замечательный человек. Просто замечательный человек. Вторая мама была. Поэтому роптать мне не на что. Мне только благодарить Бога. Отец Матфей должен был ехать в Александрию и надо было в Лефортово на замену кого-то искать. Он приехал в академию к ректору и просил отца Владимира Дёмина. Ректор говорит: — Ну что Вы, он больной человек. Кого-нибудь другого. — Кого? И вдруг назвали меня. — А он что, священник уже? — Да, священник. — Тогда вопросов нет. И что он сделал? Он этот вопрос даже не с Патриархом согласовал. Он сразу в Совет по делам религий. В то время заграничные поездки они оформляли. Отец Матфей вот сумел все это решить через всех и меня туда назначили. Он пригласил меня к себе и говорит: — Отец Владимир, тебе вот там надо немножко послужить. Ты сейчас на четвертом курсе учишься? У тебя же не каждый день занятия? — Три раза в неделю. — Тогда чуть-чуть послужи там, помоги. — Батюшка, а на сколько времени? — Чуть-чуть. Немножко. А «немножко» оказалось на три года. Ну, вот так я и начал. Ну, а там моя стихия, свой храм. С детства какие-то задумки были, я уже старался, пока отца Матфея не было, по возможности правдами и неправдами чего-то сделать. Ну, чего-то сделал. Рядом с храмом переселился отец Леонид Гайдукевич. Он был настоятелем в Хамовниках. Он и благочинный был центральный. Его мамочка ходила в Лефортово. Она облюбовывала меня там. Нужен был священник в Хамовники. Он пришел: — Отец Владимир, не желаете в Хамовники? — Не-не-не, я здесь привык. — Но могут ведь перевести, не спрашивая. — Ну, если переведут, куда денешься. Он с секретарем Патриарха лично договорился, чтобы перевести. Меня перевели. Владыка Никодим меня тогда допрашивал: — Перед иконой говори, просился? — Перед иконой говорю: нет, не просился. Владыка Никодим возмутился, что из его прихода увели священника. В Хамовниках почти 13 лет прослужил. И потом оттуда к Пимену Великому в храм. Там тоже. Меня как будто специально посылали туда, где запущенно было. У Пимена Великого казначеем был более 30 с лишним лет человек от уполномоченного, во-первых, во-вторых — совершенно не верующий. Крыша течет, ему говорят: — Константин Васильевич, крыша в храме течет. — Ваня, иди, почини. Тот идет, мешковину в масляную краску опускает, пропитает, потом ее наложит, замажет краской и все: — Нормально. Не течет. Но долго ли надо? Она высохнет, деревенеет, потом опять течет. Ему говорят: — Дырки в куполе. — Ваня, иди, почини. Тот берет марлю, бинт, клеем проклеивает, обклеивает, потом шпаклевочкой жиденькой загрунтует, потом подкрасит все и говорит: — Все, смотрите, нормально. Потом, когда взялись позднее ремонтировать, хотели там что-то делать, то купола развалились — одни заплатки были. И вот так все у него было и во всем. И самое главное, никому не давал ни во что вмешиваться. Держал все в своих руках. Уполномоченный ему такие полномочия дал, что староста его побаивался. Но ничего, с помощью Божией мы избавились от него. Кончилось тем, что у него рак легких уже был, он курил без конца, но сказал: «В храм не возить, не отпевать, попам не надо ничего». Вот человек, который 30 с лишним лет проработал в храме. И таких много ведь в то время было. И редкие случаи, когда вдруг попадали все-таки рабы Божьи. Как они не старались, а они попадали. Вот в Хамовниках одному было под 90 лет, а он еще бегал на колокольню быстрее молодых. Он во время войны ходил марши разгружать, чтобы фронту помогать, орден Трудового Красного Знамени имел. И вот уполномоченный в одно время как-то рассердился, хотел его убрать. Такой хай поднялся, да еще все его заслуги подняли так, что уполномоченный сам за себя стал переживать, что глядишь и его уберут. Поэтому оставили его. Он так до конца и служил. Но это редкое исключение было. А так, бывало, людям как поощрение некое давали. Допустим, у нас на Пятницком кладбище из комендатуры Кремля его на пенсию уволили и вот старостой храма послали, а тот креститься не умеет, не знает, как креститься. В Лефортове всенощная идет, вдруг два мужичка пришли: — Где красный уголок? Сейчас собрание будет. — Какое собрание? Откуда вы? Решили, что шутка. Нет, правда. Пришел исполком. Собрание. Отец Матфей хотел пойти на это собрание, но ему сказали: «Нет, нет, это вам не разрешается. Священники не должны присутствовать». На собрании одного назначили казначеем, другого кассиром. Тот, кого назначили старостой, месяц проработал и сбежал, не понимая, что здесь происходит. А тот, кого назначили кассиром, еще пару месяцев проработал и вместе с кассой исчез. И то радовались: «Слава Богу, ушел». Годовые отчеты раньше нужно было сдавать до 10 января. Если кто не сдаст — это был приговор, староста «летит». Это понимали, поэтому дни и ночи работали, чтобы сдать до 10-го. Старались даже до Рождества, потому что потом Рождество и уже некогда было. И вот владыка Владимир (Сабодан) рассказывал, что в Киеве, во Владимирском соборе, в конце декабря назначили какого-то старосту, председателя спортивного общества, который никогда раньше не был в храме. Он пришел, на все дико смотрит, ничего не понимает, а тут годовой отчет. Все на головах ходят — годовой отчет надо сделать. Он тоже включился в это дело, а то тоже может «полететь», его только что назначили. Наконец до Рождества сдали этот отчет. Он вечером приходит перед Рождеством, смотрит, на столике что-то целуют. Настоятель проходит мимо, и он спрашивает у него. — А чего они на столике там целуют? — Как чего? Годовой отчет. — Aaa… Годовой отчет — ему это понятно. Его можно поцеловать. Вот таких вот назначали. Когда я служил в храме на Пятницком кладбище, староста как-то приходит и заходит развязно в алтарь. Я ему говорю: — Слушайте, в конце концов, ведите себя прилично! Если Вы приходите в алтарь, да еще во время службы, извольте сделать земной поклон престолу. И потом не как к себе в контору заходить — на колени и земной поклон! Потом смотрю, как-то во время службы открывается дверь и он ползет на коленях. Думаю: «Чего это он так?» Оказывается, он дошел до солеи, встал на колени и на коленях по солее полз в алтарь. Вот заставь дурака Богу молиться, как говорится. Поэтому с ними курьеза хватало. Сейчас тоже всякое бывает, но все-таки уже не до такой степени. В Лефортове выходит с Чашей священник на Великом входе. У ящика стоит председатель ревизионной комиссии, такой здоровый, и на весь храм громко кричит: «Смотри, морда какая красная. Спьяну, что ли?» На священника с Чашей на Великом входе. Другой там, еще чище, говорит: «Вот эту руку целуйте. Я этой рукой с Лениным здоровался». В то время сказать что-нибудь плохое про Ленина было нельзя. Молчишь, думаешь: «Ладно, Бог с тобой. С вами все ясно». Всего не расскажешь. Когда с чем-то непосредственно сталкиваешься, сразу вспоминаются какие-то детали, а специально подумать — и не вспомнишь. С одной стороны, священники, которые после войны служили в храмах, из числа обновленцев порой, в то время старались обогатиться. В то время деньги были большие. Машину покупали, дачу покупали. Не думали, что потом у них это же все отберут. Но были и другие священники, которые, как я уже рассказывал, к этому не стремились. Но потом гребенка как-то всех подровняла. У нас в 1960-е годы как духовенство соберется, самый главный вопрос: «Вы на кружке или на окладе?» Это самый больной вопрос был. Потому что если на кружке, налог уже заплатили, то можно еще раз и еще, скажут: «А у нас есть сведения, что у вас больше был доход». Доказательства никакие не приводят и все равно начисляют. Не заплатил — регистрацию отберут. Священники, чтобы не лишиться служения, продавали все, платили, лишь бы только как-то уцелеть. Были курьезные случаи. Однажды в Перхушково владыка Леонид служил. Местный благочинный, отец Николай Морев такой был, спрашивает: — Ну как? Все у нас перешли на оклад? С оклада уже ничего не возьмешь. Все говорят: — Да, да. Начали служить Литургию. Во время «Апостола» на горнем месте духовенство по правую и левую стороны и владыка, обращаясь к настоятелю, говорит: — Отец Глеб, Вы все-таки на «кружке» сидите? — Нет, на окладе. — А я знаю, что на «кружке». Благочинный говорит: — Владыка, я проверял, он на окладе. — А я знаю, что на «кружке». — Нет, на окладе. Сколько было духовенства, все завелись: — Владыка, почему Вы нам не верите? Настоятель: — Владыка, вот перед престолом перекрещусь… — Безбожник, я же тебя запрещу в служении. — Если есть за что, запрещайте! — Ах, есть? Ну-ка, встань. Он встал. — Сними тряпку. Тот снял. А там, оказывается, стульчика не хватило, поставили тумбочку с прорезью — то есть кружку ему поставили и накрыли тряпкой. А тот не заметил. Смех. Архидиакону надо читать Евангелие, он не может выйти. Такая была болезненная тема, поэтому все завелись, потом долго не могли успокоиться. Стоят потом на Литургии, владыка говорит: — Отец Глеб, скажите, пожалуйста, во время Литургии какие требы совершаются в Вашем храме? — Какие требы? Никакие. — Как никакие? Крестины, венчания, отпевания? — Да нет. — Точно нет? — Владыка, ну что Вы, честно, нет. — Отец Глеб, какую требу Вы сейчас совершаете? Переверните книжку и посмотрите. Он ничего не понимает. Оказывается, Служебника не хватило, он схватил первую книжку, а там на корешке написано «Требник». Владыка что-нибудь тихонечко скажет, потом долго в себя не придем. Поэтому и грустно, и смешно — все рядом бывало. Как-то в одном храме владыка говорит: — Не ходить на трапезу. Батюшка: — Владыка, мы накрыли уже. — Нет, нет, нет. И никому, чтобы не ходили. Обидно было, что они так старались. А вдруг через три дня в газете областной, она была в Загорске, пишут, что там владыка со своими иподиаконами восседал, куплено было столько-то коньяка, столько-то рыбы, столько-то всего. Кто-то слил эту информацию. Газета эта выходила раз в неделю и они заранее дали это в газету. Владыка пошел к уполномоченному — пусть опровержение печатают. Потом пришли из редакции, говорят: «Мы не можем подрывать авторитет газеты, поэтому мы сейчас напечатать не сможем. Мы Вам приносим извинения». Вот, владыка сработал раньше. То ли почувствовал что-то, то ли предвидел, сказал никому не ходить. И действительно, они поняли, что там никого не было, а информацию в газету дали. Тогда искали всякого повода, чтобы что-нибудь подлить на Церковь, чтобы ее опорочить. Где-нибудь какой-нибудь батюшка устроит день ангела. Сторожек у храма не было тогда, где-нибудь на квартире у кого-нибудь. Посылали таких соглядатаев и из этого потом делали конфетку, как говорится. У меня на свадьбе, помню, корреспондент какой-то появился. Мне еще теща все говорила, что со свадьбы нельзя никого выгонять. Был такой старший помощник инспектора Горбачев, известный такой, и староста собора Капчук Николай Семенович. — Ты их приглашал? — Нет. Потом смотрю, исчезли. Оказывается, они просто их вызвали: — Слушайте, ребята, идите сюда. Те с таким секретным видом идут. Они довели до лифта, открыли дверь, пропустили их, те вошли в лифт, дверь захлопнули, а там решетчатая такая сетка, они говорят: — Нажми первый (с десятого этажа), если еще поднимешься сюда — без лифта спущу. Всё. Ушли. А потом, действительно, пришло подтверждение, что хотели репортаж какой-то дать. А там были еще как раз преподаватели семинарии, было духовенство. Все бы это разместили, фотографии, конечно. Помешали ему, не дали. Каждый раз ходишь и думаешь кого-нибудь пригласить, кто его знает? Кто среди нас будет еще и кто про нас потом напишет? И свои собратья были такие, и не только свои. В большинстве случаев чужие. Но были и среди своих. Не сомневаюсь, что были, потому что откуда же материалы были? Явно, что кто-то из своих. Кого-то прижмет уполномоченный на чем-то, кто-то проштрафился, отрабатывает потом уполномоченному, его задания выполняет, которые тот ему поручает. Так что свои собратья. Я как-то попросил отца Матфея про одного…. — Собратья вот такие. Он говорит: — Батюшка, терпи. Потому что они у уполномоченного на хорошем счету. Тебя грязью обольют, а сами выкрутятся. Так оно и было. Один настоятель на Пятницком кладбище как-то попытался немножко приструнить. И вот после этого он выходит как-то из храма и ему на крыльце говорят: — Батюшка, Вы у нас Минею не взяли случайно? — Зачем мне ваша Минея? Что вы? — Батюшка, поймите, у нас Минея пропала. Он открывает портфель. Минеи нет, но какая-то книжка. Какой-то мужичок спрашивает: — А что это за книжечка? Смотрите штамп «Библиотека Мориса Тореза». Так, а давайте позвоним туда. То ли звонили, то ли не звонили, потом приходят и говорят: — А Вы знаете, эта Ваша книга краденая. Вы что, скупаете краденое? Или сами похитили? — Да что Вы за глупости говорите? Заберите эту книгу. А на следующий день его вызывают к уполномоченному: — Вы знаете, Ваше служение пока приостанавливается, потому что у Вас там краденая книга обнаружена. Следствие покажет, как она к Вам попала — сами Вы ее похитили или скупили где-то. А сейчас пока воздержитесь от служения. Уполномоченный куда-то вышел. Помощник его говорит: — Евгений Михайлович, у Вас единственный сейчас шанс — пишите заявление, что из Москвы уходите. А иначе следственное дело, это Вам малоприятно будет. Написал. Служил в разных приходах Московской области. Когда в 1990 году уже перестройка началась, я говорю: — Отец Евгений, возвращайся, теперь уже другое положение вещей. — Батюшка, после того, что я претерпел, уже нет. Он почетным настоятелем уже был последнее время. То есть вот такие провокации могли устроить — и все, докажи, что не так. Кто-то подсунул ему в портфель. Наверное, в алтаре стоял портфель и кто-то сунул ему туда книгу. Многие сгинули так. Духовенство. Кто старался себя образцово вести, подчеркнуто образцово, таких решали проучить. ***
[1] митрополит Питирим (Нечаев, 1926-2003).
[2] Российская православная автономная церковь, религиозное объединение, относимое к неканоническому православию с центром в г. Суздале. Не признана ни одной из Поместных Православных Церквей и не имеет с ними евхаристического общения.
[3] Глеб Павлович Якунин (1934-2014), в 1993 году лишен священнического сана, в 1997 году отлучен от Церкви через анафематствование.
Дата записи интервью: 5 октября 2024 года.
Проект «Память Церкви»/Патриархия.ru |